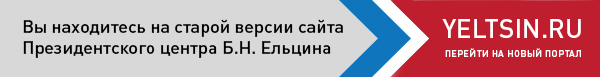Когда Россия впервые стала миротворцем
День за днем. События и публикации 25 июня 1992 года
комментирует обозреватель Аркадий Дубнов*
Лето 1992 года на пространстве бывшего СССР складывалось драматически.
«Известия» 25 июня 1992 года вышли под шапкой: «Конфликты в республиках бывшего СССР – одна из главных тем стамбульской встречи». Сама по себе встреча лидеров 11 государств, обсуждавших идею создания зоны экономического сотрудничества стран бассейна Черного моря, не привлекла бы к себе такого внимания, если бы она не происходила в разгар трагических событий в Молдавии, где вспыхнула гуманитарная катастрофа в результате нападения молдавских войск на Бендеры. Об этих событиях репортаж из Бендер специального корреспондента «Известий» Валерия Якова (затем в течение долгих лет главного редактора «Новых Известий», а пару недель назад возглавившего департамент информационного обеспечения в правительстве Московской области – А.Д.) – «Перемирие со стрельбой». Еще одна статья про эти события – «Война на всех фронтах».
Кроме того, накануне, 24 июня в Дагомысе, под Сочи, состоялась чрезвычайно важная встреча между президентом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кравчуком, а потом Ельцин провел переговоры со ставшим к тому времени лидером Грузии Эдуардом Шеварднадзе. «Известия» публикуют материал под названием «Россия будет участвовать в урегулировании грузино-осетинского конфликта».
Бывший госсекретарь России (первый и последний в ее истории) Геннадий Бурбулис, анализируя последствия Беловежских соглашений, много лет спустя пытался объяснять, почему подписывая эти соглашения, положившие конец существованию СССР, не бралась в расчет «сжатая пружина национализма и сепаратизма, которая расправится сразу после того, как будет покончено с Советским Союзом» («Переломный момент истории», интервью в сборнике «История новой Россия», том 1, Москва 2011):
« …Мы понимали это. Но я не знаю другого варианта, который был бы возможен в то время. У нас не было ни общей идейной базы, ни результативных экономических возможностей, ни достаточной силовой системы, чтобы удержать процесс разбегания, утверждал Бурбулис, – повторяю, наше решение позволило уберечь миллионы людей от еще более непредсказуемого, тяжелого развода с конфликтами, войнами, жгучими выяснениями отношений».
В репортаже из Стамбула Эльмара Гусейнова, в частности, читаем:
«Главное внимание приковано, несомненно, к предстоящей встрече руководителей Румынии, Молдовы, Украины и России, которые обсудят проблемы, связанные с конфликтом вокруг Приднестровья. Не осталось незамеченным сближение точек зрения Украины и России после встречи в Дагомысе, что укрепляет позиции Ельцина, полного решимости не допустить силового решения приднестровского конфликта, к чему в последнее время склонялся Кишинев. Другая «изюминка» саммита в Стамбуле – возможная встреча президентов Азербайджана и Армении. Тер-Петросян прямо заявил, что он готов к подобной встрече и к обсуждению на ней взаимоотношении двух стран из-за карабахской проблемы. Абульфаз Эльчибей, совершающий свой первый зарубежный вояж после избрания на пост главы государства, был более сдержан. Прибыв в Стамбул, он не отверг с порога возможность подобного рандеву. Однако отметил, что проблемы во взаимоотношениях столь остры, что их не решить в рамках одной встречи. Эльчибей предложил для начала встретиться министрам иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы выработать какую-то базу для переговоров».
Эльчибей, разумеется, был прав. «Одной встречи», было недостаточно. И двадцати одной, и сто одной – тоже. И двадцати лет оказалось мало для разрешения проблемы. Вряд ли в те годы кто-то реально представлял, что две страны будут растить уже второе поколение людей в условиях военного конфликта, что на границе между Арменией и Азербайджаном будут гибнуть солдаты, родившиеся уже после начала этой кровавой герильи. Что вся внутренняя и внешняя политика Еревана и Баку будет подчинена только одной цели – доказать свою правоту в войне, а политические карьеры строились в обеих странах исключительно на взращивании милитаризма и национальных фобий.
Я давно не был в Азербайджане, но недавно несколько дней провел в Армении среди моих друзей. Только немногие из них, к глубокой моей горечи, способны были оказаться выше, – нет, точнее будет сказать, – ниже того запредельного уровня нетерпимости к соседней стране и ее жителям, что стал обычным для сегодняшней жизни. Вспомним только отказ Армении участвовать в конкуре Евровидения, который прошел в Баку в мае этого года…
К сожалению, не надо ездить в Азербайджан, чтобы убедиться: в подогревании ненависти к соседям там им ни в чем не уступают, а в чем-то, возможно, даже превосходят. Чего только стоят «исторические изыскания» официального Баку, согласно которым большая часть современной Армении расположена на бывшей азербайджанской территории… Или регулярные угрозы решить карабахский вопрос новой войной против Армении…
А вот строчки из драматического репортажа Валерия Якова из Бендер:
«…Обстановка непосредственно в Бендерах остается чрезвычайно напряженной. Город практически опустел. Большинство жителей его покинуло, как только на улицах прекратились активные боевые действия. За последние два дня удалось, наконец, собрать с улиц города трупы, которые загружались в грузовики и вывозились в Тирасполь. К некоторым погибшим и раненым не удавалось длительное время подобраться из-за непрекращающейся перестрелки. Отдельные части города по-прежнему находятся под контролем отрядов молдавской полиции, и там то и дело вспыхивает активная пальба. Многих погибших местные жители, оставшиеся в городе, подбирали и хоронили прямо «во дворах домов или в ближайших скверах, — чтобы не допустить вспышки эпидемий. Далеко не всегда удавалось установить личность жертв, а потому число пропавших без вести постоянно увеличивается».
В другом материале собкоров газеты, из Кишинева, взгляд, как бы, с молдавской стороны:
«Ночью с 24 на 25 июня все населенные пункты в зоне конфликта подверглись обстрелу. По сообщению Минобороны Молдовы, огонь был открыт из всех видов оружия по Кочиерам, Кошнице – опорным пунктам молдавских вооруженных сил на левом берегу Днестра. Усиленному обстрелу подверглись Дубоссары. По словам председателя горсовета В. Финаги на с 12 до 3 ночи по городу было выпущено 40 ракет. Есть убитые и раненые. Пресс-службы правого и левого берегов Днестра регулярно сообщают о возобновлении огня по всей линии противостояния. При этом в нанесении первого удара, как всегда, обвиняют противника…».
Журналисты «Известий» пытаются быть «над схваткой»:
«…хорошо еще, что население становится все менее восприимчивым к воинственной пропаганде «воюющих берегов», пытающейся подымать в сердцах молдаван, украинцев, русских «волны ярости благородной» против своих ближних». «По данным социологического опроса, сообщают корреспонденты, – только 18 процентов жителей считают, что правительство Молдовы поступило правильно, применив в Приднестровье силу. Донельзя надоела людям и игра России мускулами. Не одобряют позиции российского руководства и требуют безоговорочного вывода из Молдовы 14-й армии 80 процентов опрошенных».
В Приднестровье ринулись добровольцы из России, российское руководство больше не могло сохранять нейтралитет, и 7 июля туда прибыли полномочные представители президента Ельцина. Тем временем в Кишинёве левые силы начали выступления за отставку правительства и парламента, допустивших гражданскую войну. Глава правительства и министр обороны ушли в отставку. Удалось достичь соглашений о прекращении огня, а 21 июля в Москве Ельциным и президентом Молдовы Мирчей Снегуром в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова было подписано соглашение «О принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы».
В ходе событий лета 1992 года в Бендерах погибло минимум 489 человек, из которых 132 – мирные жители, 5 – дети. Ранены 1242 человека, из которых 698 – мирные жители, 18 – дети. Пропали без вести 87 человек. Впоследствии 40 человек умерли от ранений. Уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, из которых 60 полностью разрушены…
Приднестровский конфликт, как и прочие на постсоветском пространстве, остается замороженным до сих пор.
После войны на Кавказе в августе 2008 года, итогом которой стало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, в Тирасполе воспряли духом, надеясь, что Москва признает независимость и Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Однако произошло обратное, российское руководство решило продемонстрировать Западу в общем и Евросоюзу, в частности, что войну на Кавказе спровоцировала Грузия и обвинения в адрес Москвы в ее имперских устремлениях не имеют никаких оснований, доказательством чего станет сотрудничество с ЕС и учет интересов Брюсселя в решении Приднестровского конфликта, исключающего признание государственного суверенитета ПМР.
Как писал после августовской войны в журнале «Россия в глобальной политике» (№ 5, 2008 год) известный политолог Сергей Маркедонов, «осторожность отличала и позицию Молдавии, которая готова ради помощи Москвы в деле интеграции с непризнанной ПМР принять важные российские условия (отказ от вступления в НАТО, нейтралитет, признание российской собственности на совей территории)…
Согласен с этой оценкой и другой политолог, директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.
«Прорумынские тенденции в Молдавии спровоцировали сепаратистское движение в Приднестровье… ПМР приобрела все атрибуты современного государства. Однако, несмотря на военно-политическую поддержку и материальную помощь, которую Москва оказывает Тирасполю, она воздерживается от официального признания ПМР. Эта позиция сохраняет силу и после августовской войны 2008 года», пишет Тренин в своей книге «PostImperium» (Москва, 2012).
Наконец, еще одна статья в «Известиях» от 25 июня о прорыве в грузино-осетинском урегулировании на переговорах в Дагомысе.
«Встреча Б. Ельцина и Э. Шеварднадзе, в проведении которой никто не был уверен в течение первой половины дня 25 июня из-за обострения ситуации в Тбилиси, все же состоялась», пишет корреспондент. «Б. Ельцин и Э. Шеварднадзе в сопровождении своих делегаций, а также Председателей Верховных Советов Южной и Северной Осетии вышли к телекамерам заметно уставшие, но довольные тем, что им, наконец, удалось найти общий язык. Б. Ельцин сообщил, что они выработали соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. Россия будет участвовать в этом процессе, включая и создание разделительных войск. …Достигнута договоренность о прекращении огня между грузинскими и осетинскими вооруженными формированиями, будет создан кордон для дли их размежевания, выработан механизм контроля за соблюдением условий перемирия… Затем в течение трех недель Россия должна вывести из Грузии дислоцирующийся там вертолетный полк и еще одну воинскую часть… С 1 июля будут установлены дипломатические отношения между двумя странами. Россия поддержит Грузию в вопросе о ее вступлении в ООН. Намечено снять всякого рода блокады для развития торгово-экономических связей между двумя государствами, подчеркнул Шеварднадзе».
Дагомысские соглашения были, пожалуй, самым значимым успехом политики новой России на постсоветском пространстве. Уже 14 июля началась реальная миротворческая операция, в регион были введены российский, грузинский и северо-осетинский миротворческий батальоны, боевые действия были прекращены, создана Смешанная контрольная комиссия (СКК – Россия, Грузия, Северная и Южная Осетия). Конфликт, жертвами которого стали более тысячи человек, сожжено 100 сел, был заморожен, и это состояние длилось до 31 мая 2004 года. В этот день без согласования с СКК под предлогом борьбы с контрабандой на территорию ЮО был введен спецназ МВД Грузии в количестве 300 человек. Члены СКК расценили этот шаг как срыв Дагомысских соглашений, а в июле избранный в конце 2003 года президентом Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что не исключает денонсации этих соглашений. А в августе 2004 года началась забытая нынче вторая грузино-осетинская война (8–19 августа). «Это стало рубиконом в отношении России к этому конфликту, считает эксперт по Кавказу политолог Сергей Маркедонов, – Москва перестала сохранять нейтралитет и стала поддерживать Южную Осетию, рассматривая ее как инструмент воздействия на Тбилиси».
До третьей, опять августовской войны, принесшей ЮО признание ее суверенитета со стороны России, оставалось ровно четыре года.
Аркадий Дубнов

Международный обозреватель газеты «Московские новости». Закончил МЭИ, работал в НИИ и на АЭС. В журналистике с 1990-го: «Демократическая Россия», «Новое время», «Радио Свобода», «Время новостей». 20 лет наблюдает за тем, что происходит на месте бывшего Союза.