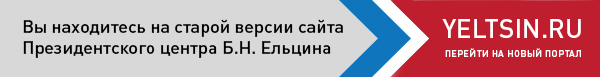Интервью со Станиславом Шушкевичем
Ну, вы знаете, это… это так много нужно описывать, ну… Допустим… Вот эта, понимаете, агрессивная… Я уже даже не помню этих замечательных формулировок Афанасьева. Агрессивно-послушное большинство или там меньшинство. Или… Или методы управления, противоречащие здравому смыслу. Здесь объяснение очень… очень простое. Я был сторонником здоровой конкуренции в экономике, в общем-то, либеральной экономики, с, в общем-то… с не суперконтролем со стороны государства, но… но, в общем-то, с присутствием государственного контроля, потому что иначе нельзя. С элементами противостояния монополизму. То есть я был сторонником построения народного капитализма. То есть то, что, по моему мнению, построено в Германии, ну, или, скажем так, в других европейских странах, и к чему стремятся другие европейские страны. Я был противником латиноамериканского… я просто на примерах вам году, капитализма, абсолютно не народного, когда там 2 — 3 процента супербогатых, и остальная, в общем-то, беднота. И надо было бы строить именно такое общество. И Европа нашла способ, как это строить. Кстати, Япония нашла способ, Корея нашла способ, как это строить, Южная, естественно. Вот я был сторонником такого подхода.
- Как развивались события в Белоруссии во время путча с 19 по 21 августа 1991 г.?
Август 1991-го — здесь все просто, как ясный день 19-е число, объявляется ГКЧП, во главе ЯнаевГеннадий Янаев — вице-президент СССР (1990 – 1991), председатель ГКЧП. Господи, этого хлюста я терпеть не мог! Потому что на Съезде народных депутатовIV съезд народных депутатов СССР проходил в Москве с 17 по 27 декабря 1990 г., когда… когда его Горбачев выдвинул в вице-президента, ну, я, во-первых, из-за этого еще больше презирать начал Горбачева. Потому что выдвинуть такого типа в вице-президенты мог только Горбачев, по недомыслию, своему природному.
Он его выдвинул, а я ему вопрос, у микрофона был: «Ну, вот вы кандидат наук. Какая тема вашей кандидатской диссертации?» И вот, представляете, человек не знает тему своей кандидатской диссертации. Да, это, говорит, по троцкизму что-то. Что-то по троцкизму у него в кандидатской диссертации. Боже ты мой! Если ты на… по совести работал, сделал научную работу, да ты умирать будешь — ты будешь помнить, в общем, что ты сделал! Понимаете, я не зна… не думаю, что кто-нибудь из моих кандидатов или вот я, например, сам кандидатскую, докторскую — да я вам сегодня все положения изложу! Потому что я это вымучил, я это выстрадал. А он что-то по троцкизму.
Ну, и потом это вот все голосование. Да видно было, что… что это, в общем-то, за выкормыш комсомольской вот этой элиты, спившийся, сгулявшийся и прочее. И прочее. Я его терпеть не мог. Поэтому когда я услышал, что Янаев во главе, дальше мне… слушайте…
Ну, и потом это вот все голосование. Да видно было, что… что это, в общем-то, за выкормыш комсомольской вот этой элиты, спившийся, сгулявшийся и прочее. И прочее. Я его терпеть не мог. Поэтому когда я услышал, что Янаев во главе, дальше мне… слушайте…
Меня немножко смутило то, что ПугоБорис Пуго — министр внутренних дел СССР (1990 – 1991), член ГКЧП, там был, понимаете, немножко смутило. Потому что мне казался он как-то человеком достойным. Вот. А дальше СтародубцевВасилий Стародубцев — председатель Крестьянского союза СССР (1990 – 1991), член ГКЧП… Господи, я с этим Стародубцевым летел в самолете, первый раз в жизни летел первым классом, как народный депутат СССР, из Москвы в Вену. Не помню, почему-то меня там послали по Съезду народных депутатов.
Ну, я так значок свой на всякий случай снял, когда я ехал… народного депутата СССР. Думаю: там, в самолете в Вену, что там, в общем, светиться. Я знал, что значки на Запад – это украшение. Ну, я работал все-таки в Югославии, работал в Польше, в Германии. Думаю: ну, что я еще буду там со значком ехать. И тут первый класс водку хлещет этот… Стародубцев со своей, в общем-то, такой же компанией, как и он, гоняет эту стюардессу. Боже мой, первый класс! Автомобиль. В Вену. Для меня Вена, Париж — это, в общем-то, центры европейской культуры. Я думаю: ну, при… приплыли, так. А потом я одеваю значок, к выезду, думаю, если он… Он как увидел этот значок, так, вы знаете, очень как-то уважительно начал от… относиться. Так тихо-мирно, и пить меньше стали.
И вот я вижу: два человека мне хорошо известны в этой компании, один — суперколхозник, а второй — суперкомсомолец, так. Ничему хорошему не быть. Я на даче слушаю «Радио Свобода», завожу свои «Жигули» и приезжаю сюда, в Минск. Иду к председателю Верховного Совета, я был первым… И говорю: «Николай Иванович, надо созывать сессию Верховного Совета. Плохо». Он: «Да что вы, Станислав Станиславович, я вот звонил Лукьянову, там все в порядке, никаких недоразумений. Ну, вы же понимаете, сам Лукьянов мне сказал…» Я думаю: ну, соображаешь ты прилично, но ведь Лукьянов наверняка там в этой шайке, потому что это одного поля ягоды. Он этого не понимал или не хотел понимать. Короче говоря, сколько мы его ни уговаривали, сессию он не созвал, так. Потом многие, Позняк так же действовал, вот. Я, кстати, очень уважаю Позняка нашего, потому что политик он плохой, а уж, так сказать, историк и там археолог, и раскопатель Куропат замечательный. Вот. И порядочный человек. И вот в конце концов 26-го собирается сессия, здесь уже Николаю Ивановичу некуда податься, кроме как податься в отставку.
Ну, и 26-го числа, когда у нас собралась сессия Верховного Совета, ушел в отставку председатель, я стал исполняющим обязанности.
Станислав Шушкевич об официальном визите в Германию в сентябре 1991 г.
И здесь еще очень интересная произошла вещь. Я поехал в… в ФРГ, в Дюссельдорф. Дело в том, что визит… Дело в том, что визит за рубеж меня, как заместителя председателя Верховного Совета, нужно было организовывать через министерство иностранных дел СССР, и там на это потребовался срок — шесть месяцев. А мы уже начинали, в общем, самостоятельно кое-что делать. И здесь подвернулась какая-то фирма, которая сказала: «Мы берем все это на себя, сделаем вам через три дня». И… и они уже к этому времени, там получилось, через… У меня был в первых числах сентября визит в Федеративную республику Германию, я туда поехал как первый заместитель председателя… исполняющий обязанности председателя Верховного Совета. Но я поехал не в Бонн, не в столицу, а поехал, в общем-то, ну, в столицу земли Северный Рейн-Вестфалия, в Дюссельдорф. И вы знаете, там… там тоже произошло то, что, в общем, очень сильно как-то меня потрясло лично. Потому что я помнил войну и знал все, что здесь творили фашисты, понимаете, это забыть невозможно. Это… это страшное дело, я сейчас пытаюсь об этом написать, но это страшное дело. И когда я приехал в Дюссельдорф, ну, вижу, в общем, этих богатых, в общем-то, преуспевающих нем… немцев, да, ну, шикарно живущих, — у меня какое-то такое настроение… я бы сказал, не очень хорошее, вот после там ГКЧП и все. И вот встреча. А премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия был Йоханнес Рау. И вот, вы знаете, он, видимо, учуял вот что-то… человек опытный, достойнейший человек, политик прекраснейший. Он начинает встречу такими словами: «Я хочу начать эту встречу с того, чтобы принести свои глубочайшие извинения представителю белорусского народа (он меня так называет), вот Станиславу Шушкевичу, в связи с теми ужасами, которые на белорусскую землю принесли представители немецкой нации». Я там чуть не расплакался. Я в такой вот растерянности, даже… даже не знаю, что…
А потом, ну, он такую трогательнейшую речь, и после этого уже деловые. Значит, у нас там были намечены разные дела для подписания, помощь ФРГ, все. Ну, и тогда я говорю: «Вы знаете, я больше всего сначала воспринимал… Для меня понятия «немец» и «враг» были синонимами. Но, вы знаете, я сегодня делю Германию на Германию Бетховена, Баха, Шиллера. И не хочу говорить о Германии Гитлера, Геббельса и им подобных. Поэтому давайте будем говорить о хорошей стране. И я думаю, что вы наследники тех, кто хорошие традиции здесь…» И вы знаете, мы с ним там вообще так подружились, я бы сказал. Он потом стал президентом Германии, вот. Он даже… Он даже потом, когда я еще через… еще там через некоторое время был в Дюссельдорфе, так он даже не побоялся на моем самолете лететь в Потсдам, на котором я уже прилетел как председатель Верховного Совета, уже с официальной делегацией.
Вот поэтому вот этот конец августа — начало сентября, а потом уже в середине сентября меня избирают председателем Верховного Совета, это тоже целая длинная эпопея. Это, в общем, разговор очень длинный, это все не расскажешь мгновенно. Это очень насыщенное событиями время. Это время, когда, я бы сказал, был тот импульс, который, я думаю, что мы довольно плотно использовали, поэтому что мы утвердили белорусскую национальную символику, и она продержалась почти три года, вот. Потом ее коммунисты снова затерли. Короче говоря, есть о чем вспомнить. А в плане возобновления исторической памяти это были очень важные факторы. Да и сдвиги по преобразованию в экономической области тоже были неплохими.
- Опасно ли было поддерживать Ельцина в Белоруссии во время путча?
Я этого не ощущал и над этим не задумывался. То есть для меня Ельцин был человеком, который не должен был доказывать мне, что он положительное явление. Понимаете, я во всех случаях, и то что называют там расстрелом парламентаСтанислав Шушкевич имеет в виду вооруженное противостояние в Москве 21 сентября — 4 октября 1993 г. между сторонниками президента и правительства с одной стороны и Верховного Совета РФ — с другой, завершившееся штурмом Белого дома и арестом лидеров оппозиции — вице-президента РФ Александра Руцкого и председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова, я и тогда… Слава богу, я знал, что такое Хасбулатов, так, и что такое Руцкой и… и прочее. Так, и поэтому я… я был всегда на стороне Ельцина. Вот для меня этот вопрос не существовал.
И вы знаете, честно говоря, я не знаю, как вот там многие спрашивают, как дальше там было, там страх, страх, страх… Вообще-то, должен был быть страх, вот как я сегодняшние позиции оцениваю, но тогда у меня этого страха не было. Не потому что я герой, нет-нет, а потому что я его не ощущал, не понимал, я не хотел его ощущать. Я ни… никогда не действовал, не делал ничего в состоянии страха. Вот. Вот… Знаете, моя мать очень любила красивые цитаты. Она была преподавателем русского языка и литературы, в общем, русского, белорусского и польского, как это ни странно. Там такой диплом у нее был. И я вот это помню: «Коль нужно, чтоб рука была тверда, то страх не должен подавать совета». Вот. И… и вообще, некоторые, так сказать, вот эти шекспировские, лермонтовские, писаревские фразы, они во мне сидят, вот, они во мне сидят.
Я не знаю, что меня больше воспитало очень длинные вот эти проповеди общественников или вот простейшие слова, которые… которые выискала и, в общем, внедрила в мое сознание мать. Понимаете, у меня до сих пор с… Она говорит: «А ты знаешь, во сколько лет умер Писарев?» Ну, я же знал, великий русский критик, там все такое. «В 28. А знаешь, сколько лет он просидел в тюрьме, в Петропавловской крепости? Четыре года. А знаешь, что он там написал великолепные свои работы?» Снова не знаю. «И знаешь что, ты запомни на всю жизнь: когда труд — удовольствие, жизнь — радость». Понимаете, в чем дело. И я это… я это… это помню. Притом я… я бы не сказал, что мать у меня заклинило, так сказать, на… на вот этих российских афоризмах, российских крылатых словах. Понимаете, вот она безумно потом любила Сент-Экзюпери, вот, и… и тоже это… Вот это я все отвечаю на ваш вопрос, что было со страхом. Понимаете…
Другие радости у меня, в общем-то, снимали этот страх. Та же… В Верховном совете я иногда… я думал: черт побери, там столько вот у меня… с такой злобой на меня смотрят. А тогда снова мамино, что… «Наибольшая человеческая роскошь – радость человеческого общения». Понимаете. Я могу не быть… не… не педантично-точным могу быть, но это практически так, не искажая смысла. Вот.
Значит, я приехал, сразу же, когда я услышал по «Радио Свобода», я завел свои «Жигули». Они, к счастью, доехали до Дома правительства, где… Пошел к Дементею. И все вот эти дни я не возвращался уже на дачу. Мы твердили… У меня этой квартиры не было, я в двухкомнатке жил тогда, да. Вот. И мы твердили… Я еще председателем Верховного совета долго в двухкомнатке жил. Горбачев возмущался, что как это, то есть спецсвязи у меня нету. Какая там спецсвязь? Вот. И я… мы там, как говорят, мутили воду. Мой кабинет, первого заместителя, это был те, где собирались те, кто протестовали против ГКЧП, а председатель нас успокаивал, говорил, что это… напрасно, ребята, волнуетесь, вы несерьезные, вы слабые политики и прочее-прочее. Вот так и провели эти три дня. А потом уже, когда разгром, тут уже все, все ясно, уже все… И вот тогда коммунисты так испугались, что дальше некуда. Понимали, что дальше просто некуда. И на вот этой волне своего этого испуга… Понимаете, я думаю, что политически я много упущений сделал, что на волне этого испуга вообще много было бы решений, но у меня не было тех, кто мог готовить эти решения, кто мог готовить, в общем-то, юридически обоснованные законопроекты, и экономически просчитанные законопроекты. Не было таких сил в Верховном Совете. А тем более у меня команды не было.
- Как вы стали председателем Верховного Совета Белоруссии?
Ответ простейший. Нет ничего более никчемного, чем коммунисты в состоянии страха. Понимаете. И мне… Я могу сказать так, меня избрали благодаря Ельцину. И не потому что Ельцин посоветовал это сделать, а потому что он там разгромил ГКЧП. Понимаете, в чем дело. И вот самым мужественным… Понимаете, я иногда задумывался, я тогда не все знал, вот потом я послушал, как Лебедь объяснял, понимаете. Когда объяснял… Ведь надо же… надо же найти политический ход, как… как противостоять вот этой чуме, этой нечисти, понимаете, вот которая ГКЧПовская.
Станислав Шушкевич о действиях Ельцина в дни путча
И здесь, мне кажется, был… был найден очень хороший ход. Ельцин взял на себя командование вооруженными силами. То есть не изменяли присяге военнослужащие, понимаете, в чем дело. Это… это очень здорово. Мы не будем говорить там о его легитимности, нелегитимности, но это такой шаг, который развязывал руки. И… и… и у Бориса Николаевича я…
- Что происходило в Белоруссии после подавления путча?
Понимаете, у нас сейчас даже некоторые отмечают праздник белорусской независимости 28 августа. Что мы тогда приняли? Мы… мы наделили статусом конституционного закона нашу Декларацию о независимости, принятую более чем годом ранее. Притом, когда мы ее принимали более чем годом ранее, у нас даже наиболее националистически грамотные и наиболее патриотичные силы, Белорусский народный фронт, они считали недостаточной эту декларацию. Они даже вышли в знак протеста, чтобы за нее не голосовать. А она прошла. Вот. И по…а потом они сказали: мы вышли специально в знак протеста, потому что были убеждены, что при этом условии коммунисты придут. Да врут они! В общем, им стыдно за то, что они сделали. Но здесь я вам должен сказать. Когда мы давали, наделили статусом конституционного закона, уже мне было стыдно после этого. Потому что я думаю: там она туго прошла, так, а здесь уже конституционный закон — это же должно… должно быть квалифицированное большинство, две трети. Я думаю: ну, ни за что не пройдет. Так. И я особого энтузиазма там не проявлял. Потому что я, как председатель, я веду сессию, если я проявлю великий энтузиазм, и оно не пройдет, нехорошо получается по отношению к тем, кто ее не проводит. Ну… нужно же уважать всех депутатов, раз тебя избрали председателем, так. И поэтому я говорю, я энтузиазм не проявил. Так по сей день меня эти БНФовцы, понимаете, в каждой своей статье… Вон Позняк пишет из Польши… Он вообще забыл, что в Белоруссии происходит, уже он понятия не имеет об этом. Потому что нужно гением быть, чтобы понимать на расстоянии, что здесь происходит. Вот. И… и он вот пишет: вот это же надо, что, да, так вот я плохо себя вел, что я даже без энтузиазма, когда вот это прошло, как… Я не спорю, я… у меня не было никакого энтузиазма. Я сомневался в том, что это пройдет. Но я, кстати, об этом не объявлял, вот. А они же объявили и ушли. И вот, понимаете, вот эти шатания, истолковывать прошлое, ну, как-то вот в угоде себе — это делают те люди, которые не знают, что делать ради будущего. Вот. Я считаю, что жить прошлым просто нельзя, надо… И стараюсь, в общем-то, это не делать.
- Как вы относились к возможному запрету и суду над КПСС?
О-о-о! Это вообще… Моя компартия — это очень интересное дело. Я уже говорил, что в 1994 году, через 8 лет после возвращения из Сибири, мой отец вступил в партию. А меня в партию не тянуло. Ну, и кроме того, интеллигентов же вообще не принимали, вообще там этих всяких. Но я стал проректором Минского радиотехнического института, кандидат наук — беспартийный. В общем, чего меня доставили… Я… я пошел туда, чтобы квартиру получить, короче говоря. И что происходит? Я проректор по науке, а все… все вопросы решаются в парткоме. В парткоме, в партбюро нашего института. А я туда не вхож. Ну, что мне делать? Я… А меня туда направил секре… Ну, почему, меня же тогда утверждал горком партии, как было принято, я же в номенклатуру попал. И я как-то в разговоре с этим самым секретарем горкома, Шарапов, с…
Кстати, было очень много руководителей совершенно замечательных у нас, понимаете, замечательных партийных руководителей. Вот Василий Иванович Шарапов был. Я ему говорю, что… он говорит: «Ну, что, мы тебе лимит дадим. Короче говоря… И когда я сказал, что мне трудно работать, что меня в… беспартийного туда, в бюро парткома, не пуска… в партбюро не пускают, то выделили лимит. И я, перейдя работать в радиотехнический институт, будучи проректором, вступил там в кандидаты, а потом и в члены партии. Притом мне нужно было получать характеристики… поскольку я работал там меньше года, то характеристики мне из университета, три рекомендации я получил.
И вот так в 1968 году я стал членом партии. Вот это мое вступление в партию. Ну, чего, я… Понимаете, в общем-то, честно говоря, в партии было очень много очень приличных людей. И… и я… А еще до этого у меня было партийное поручение на заводе – это партком экспериментального цеха поручил мне обучать Ли Харви Освальда русскому языку, мне, беспартийному. Я тогда был беспартийным. Ну, и вот я был партийным. А потом я стал народным депутатом СССР и начал, в общем-то, так рассуждать довольно… довольно рьяно, что что делают коммунисты. Плохо делают! И меня приглашают в наше ЦК КПБ на комиссию, она там как-то называлась, чуть ли не по партийной этике, ветеранскую комиссию, к трем часам вот, допустим, завтрашнего дня.
Ну, меня берет за руку наш секретарь парткома, профессор Гайсенок, кстати, он сейчас посол Белоруссии в Польше, он вообще лег под ЛукашенкоАлександр Лукашенко — президент Белоруссии (1994 – н.в.) позорным образом, хотя приличным физиком был. И мы идем с ним туда, в ЦК КПБ. В ЦК КПБ пришел к трем часам. Там они что-то заседают, один выходит, я сижу, второй выходит… Я говорю тогда своему Гайсенку, говорю: «Слушай, Парткомыч, ты, знаешь ска… учти следующее. Если через пять минут они меня не позовут, то пусть ни кукуют здесь сами по себе». Он говорит: «Да что ты, ну, ты же понимаешь, это высший контрольный орган». Я говорю: «Вот так вот, нормально». Проходит пять минут, я ему говорю: «Так, скажи. Я пришел сюда без опозданий. Передай им привет и скажи, что у меня за плечами 220 тысяч избирателей, которые меня избирали народным депутатом СССР, а у них, говорю, нуль, пусть вот они себя со своим нулем и сидят». И ушел. Что я вам должен сказать, никакой такой реакции осуждающей не было. Парткомычи заткнулись. Вот после этого…
Понимаете, как народный депутат СССР я вот считаю, это было величайшее достижение. Я почувствовал себя, ну, честно говоря, человеком. Во-первых, вот эти преимущества — у меня ковер-самолет, я могу ехать в любую точку советской… Я не злоупотреблял этим, я только Минск – Москва ездил. Любу… в любую точку Советского Союза поехать, — значит мне обязаны предоставить транспорт, я еду туда, это оплачивают потом как-то, Верховный Совет — это бесплатно. Вот эти привилегии депутатов… Притом там многие понимали, что главная привилегия – это буфет в Кремлевском дворце съездов, но это тоже хорошо, мне он тоже нравился, я отрицать не буду. Вот. И, кстати, в гостинице «Россия», в гостинице «Москва» тоже это нравилось. Но главное, что, понимаете, я мог сказать: «А как, вообще… статус депутата…»
У меня помощник есть, понимаете, мне даже двух помощников выделили, то есть оплачивали. У меня студентка была четвертого курса… А я же взял таких, в общем, замечательных, понимаете, студентка-юристка, великолепная, а второй парень — афганец, который видел… прошел огонь и воду, так сказать. И вот кого нужно, к ветеранам — я афганца, говорю: вот можете ходить туда к ним и объяснить, почему меня не было, что не до них мне сейчас. Ну, а он так… А когда нужно было в прокуратуру СССР писать, мне составляла эта студентка. Замечательная студентка, кстати! Уехала потом за рубеж, к сожалению. И такие нас покидают, слишком умные, вот, их… они тут не находят места. И… когда встал вопрос о том, чтобы выйти из… Я довольно рано вышел. Ну, в общем-то, не очень рано. Я вышел в первых числах июня 1991 года, вот. То есть уже потому, что тогда у нас многие вот ученые, интеллигенты, академики, они, так сказать, прервали свое членство в КПСС. И я вышел. Ну, а потом я был ярым сторонником того, чтобы, в общем…
Я думаю, что нужно, нужен был суд и запрет Компартии. Потому что для меня достаточно взять, например… Ведь вступление или введение, которое написал Яковлев к «Черной книге коммунизма», — вот, по-моему, достаточно там оснований для того, чтобы осудить и запретить Коммунистическую партию. Так как была нацистская осуждена и запрещена. Потому что, наверное, она больше унесла жизней невинных людей, чем партия Гитлера, национал-социалисты в Германии. Я думаю, что это так. Но, наверное, сейчас этот вопрос ушел, потом… у нас, например, коммунисты рисуют из себя коммунистов парламентского типа, но когда они озлобевают, они вдруг начинают рычать на меня: ты Советский Союз разрушил. Понимаете, в чем дело. Ну, философия, ментальность — это изменяется слабо.
Я могу только один фрагмент рассказать. Значит, 20 октября 1991 года нас собрал Горбачев, всех глав республик, первых лиц, потому что там были президенты, были председатели Верховных Советов в Ново-ОгаревоНовоогаревский процесс — процесс формирования нового Союзного договора из-за назревшего кризиса между союзными республиками, начавшийся в апреле 1991 г. Получил свое название от резиденции Михаила Горбачева в Ново-Огарево, и предложил проект нового Союзного договора.
Ну, мы все сидим за столом, я взял, читаем, листаем, мне он не нравится. Но я думаю: ну, кто-нибудь выступит, я… Он спрашивает, какого мнения, Горбачев. Все молчат. Все молчат. Ну, а мне что там. Я же не был там первым секретарем или секретарем обкома. Я говорю… Я говорю: «Уважаемый Михаил Сергеевич, вы знаете, мне будет очень неудобно, если мне придется докладывать вот этот проект договора Верховному Совету. Потому что здесь не все в порядке в плане дефиниций, то есть определения здесь некоторых понятий, в общем-то, противоречат энциклопедическому, словарному. Ну, например… например, вы называете конфедерацией фактически унитарное государство, где ЦК КПБ… ЦК КПСС заменено президентом». Ну, я так ему и говорю. Он такой хмурый сидит. Говорю: «Поэтому очень сложно, я не знаю, как это докладывать Верховному Совету. Вы меня ставите в очень затруднительное положение». Вот я ему так говорю. Ну, все. А дальше встает Ельцин, вот он ему врезал не так, как я, деликатно, так, более-менее, что затруднительно. Он: «Да что тут, абсолютно неприемлемая штука». Говорит, что мы пытаемся сделать, построить какую-то президентскую республику, вот, вместо Советского Союза. Горбачева послушал, встал и ушел. А мы сидим все, остались все.
Ну, тогда Ислам КаримовИслам Каримов — президент Узбекской ССР/Республики Узбекистан (1990 – н.в.) говорит: «Ну, что же, говорит, Борис Николаевич со Станиславом Станиславовичем, вы нас поссорили вот с Михаилом Сергеевичем. Идите, находите его, пусть приходит и председательствует дальше». Ну, мы с Ельциным пошли. Кстати, по дороге я его пригласил в Беловежскую пущу. Вот. Он согласился, сказал, что службы наши отработают время вот встречи. Ну, потом нашли Горбачева, выпили там с ним по рюмке хорошего коньяку. Вернулись обратно.
Ну, в общем, собра… эти договора, в общем, не согласились мы с ними и разошлись. Значит, новоогаревский шел таким образом. Если Горбачев что-то предлагал, и с ним соглашались, то это было что-то не важное, что не нужно было везти на утверждение в республики. Если же возражали, то никаких изменений, исправлений он не допускал. То есть это было не обсуждение, а фактически желание утвердить вот свое мнение. Ну, поэтому ничего и не утвердилось. Он сказал, что вот к следующей встрече будет измененный, но мы договорились больше… Простите. Но мы договорились больше без острой необходимости не встречаться в Ново-Огарево. И это была последняя встреча в Ново-Огарево, вот моя.
Все, что могу о нем сказать. Что меня поразило, меня поразило… Вообще, вот вы знаете, вроде бы… вроде был в со… в советское время, помните, была такая анкета, какую заполнял Карл Маркс. Карл Маркс. И там у него было такое: какое качество вы больше всего ненавидите в людях? И Маркс очень красиво ответил: угодничество. Так вот, таких угодников, которые вот окружали Горбачева, притом именитых, я вообще других не видел.
С ним тогда вот этот договор принесли два человека — КудрявцевВладимир Кудрявцев — академик АН СССР, юрист, занимавшийся подготовкой нового Союзного договора, народный депутат СССР (1989 – 1991), академик, для меня был святой человек, он был председателем союзного общества «Знание»Всесоюзное общество «Знание» — просветительская организация Советского Союза, создано в 1947 г., а я был председателем минской городской организации Общества «Знание», ну, иногда мы ездили, приглашали, там в Москву, обмен мнениями, съезд общества «Знание». Ну, что вы, такой важный академик. Вот.
А второй был ШахназаровГеоргий Шахназаров — государственный советник президента СССР (1989 – 1991). Ну, естественно, отец того, который кинорежиссер. Кстати, кинорежиссер, сын совершенно изумительный. А папа с Кудрявцевым говорили так: «Уважаемый Михаил Сергеевич, вы нам только сформулируйте смысловой коридор, а юридически мы обеспечим». То есть они готовы были всегда на эти юридические аргументы, которые бы подтверждали любую мысль Горбачева. Ну, в том числе и сумасбродную. Я вообще считаю, что вообще так нельзя говорить, что… Может быть мысль, которая соответствует юридическому коридору, и которая не соответствует. Но они были готовы это сделать хорошо и быстро. Вот все мое впечатление от Ново-Огарево.
- В чем были ваши разногласия с Михаилом Горбачевым относительно проекта Союзного договора?
Я могу говорить только о последнем варианте. Понимаете, у меня такое впечатление, что Горбачев считал, что он такой хороший президент, что его надо наделить всей полнотой власти, вот. И, по-моему, так и рисовалось это все под него. Во всяком случае, я так понимал. Я не могу быть абсолютно уверенным в правоте вот этого своего понимания, но я тогда видел именно эту сторону. И поэтому мне как-то… А вот чтобы так было открыто, хорошо, чтобы он пояснил что-то, понимаете, вот… Вот… Ну, не университетчик он. Я считаю, что если ты пришел на лекцию в студентам, то тебе любой вопрос задают, если ты пришел читать на эту тему лекцию, ты должен ответить. А когда Горбачеву задавались вопросы вот по тому… по проекту того договора, который вот он принес в Ново-Огарево 20 октября 1991 года, было бессмысленно — он не владел. Вот. Поэтому это было творение его окружения, где не он был смысловым лидером, понимаете, это было для меня очевидно. А я в таком случае не… не прихожу в восторг.
- Каким вы хотели видеть новый Союзный договор?
Я уже, пожалуй, ничего не хотел видеть в то время. Потому что после КГЧП я понимал, что нужно искать другой путь. Но я бы хотел видеть попытку, какую-то мягкую, конфедерацию.
- Была ли вероятность, что события в Белоруссии будут развиваться так же, как в Вильнюсе, Тбилиси и Риге, то есть политическая оппозиция будет подавлена советскими войсками?
Абсолютно исключено! Абсолютно исключено. Понимаете, из нас давно вышибли белорусскость, и такие репрессии, которым была подвержена белорусская национальная элита, не была подвержена национальная элита ни одной другой бывшей советской республики. Я вам приведу только один пример: в 1937 году была такая акция НКВД — в России, в Украине и в Белоруссии примерно в один и тот же день, а точнее, в одну и ту же ночь фактически без суда и следствия по решению там каких-то этих самых никчемных, подлых органов расстреляли по 400 интеллигентов, соответствующе, в России — пишущих на русском языке, ну, то, что не нравилось большевикам, в Украине — то, что писалось на украинском языке, в Белоруссии — то, что писалось на белорусском языке. Ну, вот теперь посмотрите по количеству граждан. В России было в 15 раз больше жителей, в Украине — в 5 раз. Поэтому на Белоруссии это сказалось совершенно губительным образом.
И многие считаю, что у нас была генетически фактически ослаблена белорусская национальная интеллигенция, и потом еще были меры, которые предпринимала наша любимая коммунистическая партия, вот в этой тусовке, как я говорю, увеличением энтропии, физическое понятие есть такое. То есть, строго говоря, увеличение беспорядка, так, вот. Наших хороших лидеров отправляли работать где-то в другие, в общем-то, места, хороших рабочих тоже. Ну, иногда с повышением там, все, отправляли работать в другие республики. То есть вот эта смесь, из которой должен был получиться вот этот мешанный союз, на Белоруссии сказалась очень тяжело. И поэтому ничего подобного тому, что произошло в Вильнюсе, там было очень хорошее чувство национальной солидарности, в
Литве, Латвии, но и в Грузии, а здесь, в Белоруссии не было. И в принципе, не могло быть, по моему убеждению.